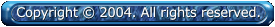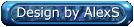Навигация |
Погода
|
Счетчики
|

Навигация раздела "Аниме" |
|
|
Раздел "Мои Японоведческие работы" |
|
Yamato Monogatari (титульный лист)
Yamato Monogatari (содержание) Yamato Monogatari (введение) Yamato Monogatari (работа) ВВЕДЕНИЕ Любому исследователю японской литературы и культуры, независимо от того, какой период составляет главный интерес его деятельности, своеобразным ориентиром всегда служит эпоха, получившая название эпохи Хэйан (IX – XIIвв.). Это было время грандиозного литературного строительства, и наследие эпохи Хэйан стало своего рода пиком, с которого различимы главные вехи прежнего пути японской словесности и откуда прозреваются многие тенденции грядущей литературы Японии вплоть до настоящего времени. Именно Хэйан на многие века определил главные литературные эталоны, телеологию основных поэтических приёмов, строй литературных вкусов, специфику мировоззрения. С исторической точки зрения эта эпоха, последовавшая за эпохой Нара (VIII в.), была для страны четырьмя веками мира (хэйан – «мир», «покой»). У власти стояли сменявшие друг друга регенты из знатного дома Фудзивара – семьи крупных землевладельцев, занимавших важнейшие государственные посты. Императорам и принцам крови предписывалось брать жён только из этого рода. Регентство Фудзивара означало политическую и экономическую гегемонию аристократии. Большинство исследователей подчёркивают контраст и несоразмерность культурного и социального развития, сохранившиеся на протяжении столетий Хэйан. Эта эпоха с политическим устройством на китайский манер, с блестящей столицей и далёкой, почти не существующей для придворного аристократа провинцией и в области культуры представляла собой сложное, противоречивое явление. Япония того времени являет собой удивительный пример гетеродоксии: уже на ранних стадиях складывания единой культуры совокупность древнейших японских верований – синтоизм – становится субстратом буддийской метафизики и психологии, магической практики инь-ян, в разное время испытывает влияние ритуалов и техники даосизма, философии и религии Конфуция. Н. И. Конрад писал: «Нет ничего более парадоксального в Японии, чем картина культуры этой эпохи (эпохи Хэйан. – Л. Е.): с одной стороны, блестящее развитие цивилизации, высокий уровень просвещения и образованности, роскошь и утончённость быта и обихода; необычайное развитие общественных взаимоотношений, сложный и многообразный политический аппарат, процветание искусства и ни с чем не сравнимый блеск литературы, а с другой – упадок технический и экономический, огрубление нравов, иногда граничащее с одичанием, невежество и воистину бедственное положение народных масс. В эпоху “Хэйан” рядом стоят: варварство и утонченность, роскошь и убожество, высокая образованность и невежество… изящный экипаж и непроходимые дороги, блистательный дворец и утлая хижина… Век самых разительных контрастов, самых несовместимых противоположностей, равных которым не знала японская история». [ 1, 12 ] В это время японская словесность, развиваясь в условиях «закрытой» для внешних сношений страны, обретала целостность и оформленность на основе традиций народной поэзии, достижений различных религиозно-философских учений, причудливо сочетавшихся в мировоззрении образованной аристократии. Позади были летописно-мифологические своды (Кодзики, 712г.; Нихонги, 720г.), «Описание нравов и земель» разных провинций страны (Фудоки, 713-728) и монументальный труд – поэтическая антология Манъёсю (60-70-е годы VIII в.), вобравшая и зафиксировавшая опыт народной и авторской поэзии. Во время празднеств при храмах звучали тексты древних молитвословий норито, запечатлевшие не только отдалённый этап культурного сознания, но и архаическое состояние языка, торжественные и медлительные старинные ритмы, более не повторившиеся в истории традиционной поэзии Японии. Эпоха Хэйан дала интереснейшую и многообразную литературу, ориентированную на специфический эстетизм и проникнутую принципом моно-но аварэ – «очарование вещей». Это было время смелого новаторства и оформления нового в канон, время владычества пятистиший – танка – и становления лирической прозы, давшей в XI в. знаменитый роман Мурасаки-сикибу Гэндзи-моногатари. Эпоха породила множество лирических дневников, повествований, семейных поэтических сборников, центром которых долгое время оставалось пятистишие – танка. В то время в среде придворной аристократии Хэйан литературная практика была настолько связана с повседневной жизнью, что нередко границы между законами творчества, этикета и быта оказывались размытыми. Литературные удачи становились залогом продвижения по службе и успеха в любви. Можно считать, что почти все носители придворной культуры Хэйан в той или иной степени были активными творцами поэзии, знатоками поэтических традиций и мастерами экспромта, автор превращался в читателя, читатель – в автора. Иногда тема стихотворения задавалась, иногда её диктовали обстоятельства. Нередко сложить экспромт требовалось по ходу разговора, чтобы познакомиться с дамой или поделиться своими переживаниями с другом и т. д. Эстетизированность жизни, расцвет поэтических турниров, записи танка на ширмах – всё это со временем должно было привести к развитию рационального начала в поэтической технике, но эта тенденция стала реализовываться несколько позже. Преуспевшие в искусстве слагать тонкие и изящные стихотворные экспромты приобретали репутацию остроумцев, вокруг них складывались анекдоты и легенды. Такие истории имели устное бытование, иногда записывались, и потом материалы для рассказов подобного рода черпались из уже существующих письменных источников – различных поэтических антологий, сборников какого-либо дома, черновых записей танка и т. д. В этой работе, все японские слова, полностью ассимилировавшиеся в русском языке, не отличаются шрифтом от остальных, а японские слова и сочетания, не ассимилировавшиеся и частично ассимилировавшиеся в русском языке, автором выделены жирным курсивом. Также автор придерживается позиции японистов, которые считают, что японские слова нельзя изменять по правилам русской грамматики, так как вследствие изменения слова по падежам и т. п. меняется само значение японского слова. Ямато-моногатари складывалось из представленных в введении историй, называемых ута-моногатари, т.е. повествований (моногатари) о том, как, кем и при каких обстоятельствах была заложена та или иная танка (ута). Эти эпизоды лишены заголовков в отличие от легенд (сэцува), отдельные истории в памятнике не нумерованы. Видимо, в оригинале не было дано распределения по эпизодам, текст был написан подряд и разделение вырабатывалось постепенно, с вынесением стиха в отдельную строку и с последующей обработкой текста более поздними переписчиками. Ещё позже ввиду научных нужд, вероятно в интересах исследования памятника, было проведено деление на эпизоды (дан), более или менее чётко установлена их последовательность. Фудзивара Киёскэ (1104-1177), поэт и филолог, в Фукурососи, произведении конца периода Хэйан, писал о Ямато-моногатари: «Есть много книг, и они не одинаковы». В японских литературоведческих трудах эти списки, хранящиеся ныне в храмах и библиотеках Японии, принято делить на три основные группы. Бoльшая часть списков принадлежит к I группе – группе дома Нидзё (названия групп даны по наиболее репрезентативным спискам, в данном случае по рукописи, относящейся к дому Нидзё, ведущему начало от Фудзивара Тамэудзи). В эту группу входят: 1) книга Тамэудзи – два тома малого формата, первоначально, должно быть, представлявшие собой один том. На странице умещено Ямато-моногатари по 11 строк, текст написан на золотой парче зелёного цвета с узором в виде цветов хризантемы. Танка расположена в две строки. Приписок после текста не имеется, недостающие и испорченные места явно восполнены и дописаны; 2) книга Тамэиэ (Фудзивара Тамэиэ – сын знаменитого поэта и филолога Фудзивара Тэйка). В ней отсутствует 70% текста, имеющегося в других списках, кроме того, 20% текста не имеет аналогий в иных книгах, и 10% содержат сильно отличающиеся варианты. Список представляет собой среднего размера том на бумаге из золотой парчи, количество строк на странице колеблется от 7 до 11, танка записаны в две строчки. Приписка в конце тома свидетельствует о том, что Тамэиэ в 1-м году Котё (1261 г.) сделал этот список с книги, находившейся во владении семьи; 3) подгруппа книг Каритани, состоящая из нескольких единиц (одна книга после 132-го эпизода пострадала от влаги) и в основном близких к следующей группе; 4) подгруппа рукописей годов Канги (1229-1232), к которой принадлежат шесть основных списков; 5) подгруппа рукописей годов Тэмпуку (1233-1234), состоящая из двух списков, один из которых до 139-го эпизода отсырел и почти неразборчив; 6) подгруппа книг Кацура-но мия, состоящая из большого числа рукописей, самая представительная из которых – рукопись Кацура-но мия; 7) подгруппа перечней танка, состоящих из пяти основных книг; 8) подгруппа различных списков, включающая большое число рукописей. II группа рукописей под общим названием «списки дома Рокудзё» состоит из двух книг – книги, находящейся во владении Судзука Минаудзи, и книги, принадлежащей библиотеке г. Тэнри префектуры Нара, прежде бывшей собственностью Миканнагиудзи. По сравнению с остальными списками эта группа имеет следующие характерные отличия: между 172-м и 173-м эпизодами (дан) помещён 9-й дан из Хэйтю-моногатари, а после 173-го дан имеется приписка: «Это повествование соизволил сложить Кадзан-ин»; затем следует 169-й дан. К III группе относятся списки Кацу-но микото. Среди них имеются копии, относящиеся ко 2-му году Сёдзи (1200 г.), ко 2-му году Энъо (1240 г.), к 7-му году Тэмбун (1538 г.), а также к концу эпохи Муромати (ок. XVI в.). в рукописях этой группы отсутствует 173-й дан, между 142-м и 143-м помещён эпизод, не встречающийся в других книгах. Тексты до 133-го дан близки к спискам I группы, последующие имеют больше сходства с рукописями II группы. Даже столь краткий обзор имеющихся в Японии списков Ямато-моногатари даёт представление о том, насколько сложен вопрос о первоначальном варианте произведения. [ 2, T. 9.] Однако, исходя из особенностей текста, можно с большей или меньшей степенью вероятности строить предположения на этот счёт. В настоящей публикации все танка даются одна за другой, как в сборнике (без пояснений). Составитель ставил перед собой цель погрузить читателя в данное произведение, и дать возможность прочувствовать настроение всего произведения. Время создания Ямато-моногатари устанавливается тоже предположительно, так как никаких данных, кроме текстовых, на этот счёт не имеется. Японский филолог Мидзуно Комао указывает, что в разных источниках называется различное время создания памятника. В Фукурососи (начало XII в.) Фудзивара Киёскэ говорится, что Ямато-моногатари создано в начале годов Тэнряку (947-957). Кигин (Китамура Кигин) в Ямато-моногатарисё (середина XVII в.) называет предположительным временем создания произведения годы Тэнкё (938-947). Сам Мидзуно полагает, что этот вопрос в настоящее время столь же неясен, как и проблема авторства, и указывают только, что бoльшая часть событий, описываемых в произведении, происходит, начиная с годов Энги (901-923) и далее, во время эры Тэнкё (938-947). [3, 9-11] Абэ Тосико в своей монографии о Ямато-моногатари также перечисляет основные концепции, когда-либо существовавшие на этот счёт. Многие, по её свидетельству, называют начало годов Тэнряку, а именно с 4-го по 7-год (950-953). Иные допускают, что произведение создавалось в промежуток с 8-го года Тэнряку (954 г.) по 4-й год Кохо (967). Абэ Тосико приводит интереснейшую таблицу, в которой расписывает весь памятник по достоверным датам событий, отраженных в нём. Оказывается, что из 250 персонажей, появляющихся на страницах Ямато-моногатари, наиболее удалённым по времени от эпохи создания памятника является знаменитый поэт антологии Манъёсю – Хитомаро, а самая поздняя фигура – Канэмори, умерший в конце X в. Исходя из особенностей титулования императоров, Абэ приводит аргументацию своей концепции времени создания Ямато-моногатари. В ту эпоху императоры сменялись в такой последовательности: Хэйдзэй, Сага, Дзюнна, Ниммё, Монтоку, Сэйва, Ёдзэй, Мицутака, Уда, Дайго, Судзаку, Мураками. Император Хэйдзэй, указывает она, именуется в тексте Нара-но микадо, император Ниммё – Фукакуса-но микадо, император Сэйва – Мидзу-но-о-но микадо и т. д., т. е. именами собственными, при этом к имени императора Сэйва добавляется эпитет «прежний» (император)лишь единожды, когда говорится о принце Садахира («пятый сын прежнего императора»). Когда же речь идёт об императоре Уда-тэнно (называемом в Ямато-моногатари Тэйдзи), то при описании событий после его отречения от престола он титулуется ин – «император-монах», до отречения – очень часто сэнтэй – «прежний император» либо ути – «императорский дворец » (метафорическое обозначение монарха). По отношению к императору Дайго в одном случае употреблено слово ути, в остальных – сэнтэй. Последним упоминается император Судзаку, имена более поздних императоров не называются. Ещё от Киёскэ (Фукурососи) повелось называть императора Дайго «прежним императором», и можно было бы подумать, что памятник написан в период правления императора Судзаку (30-е годы X в.). однако император Дайго, предшественник Судзаку, принял постриг (по лунному календарю) 22-го дня 9-й луны 8-го года Энтё (930 г.) и 29-го дня скончался, так что титул носил ин носил всего неделю. Его преемник, император Судзаку, отрёкся от престола в 20-й день 4-й луны 9-го года Тэнкё (946 г.) и умер 15-го дня 8-й луны 6-го года Тэнряку (952 г.), и это время именовался Судзаку-ин. Если вести отсчет от времени правления императора Мураками, то именно Мураками должен именоваться «нынешний император», а Судзаку до 952 г. – ин, т. е. император-монах, император в отставке, а позже «покойный император», что и соблюдено в тексте. Такие различия в титуловании позволяют предположить, пишет Абэ Тосико, что произведение было создано в период правления императора Мураками (т. е. в 50-60-е годы X в.). Эту датировку автор исследования уточняет с помощью анализа всех других рангов и титулов героев Ямато-моногатари, сопоставляя с известными фактами их биографий и обстоятельствами продвижения по службе. Вывод Абэ Тосико: Ямато-моногатари было создано около 951 г. (5-й год Тэнряку), [4, 9-21] и в тексте памятника обнаруживается немало подтверждений этому. В предисловии Абэ Тосико и Имаи Гэнъэ к изданию Ямато-моногатари в «Серии памятников японской классической литературы» говорится, что достовернее всего датировать памятник именно 951-м годом, исходя из следующих соображений: если не учитывать 81-й дан, в котором императрица Судзуко, супруга императора Дайго, умершая в 954 г., названа «покойной», все остальные события, соответствующие историческим фактам, относится к периоду до 951 г. [ 5, с. 216-217] Следовательно, при допущении, что слово «покойная» в 31-й дан внесено переписчиком в более поздние времена (тем более что трижды на протяжении текста памятника Судзуко названа просто «императрицей» явно в отличие от «покойной императрицы» – Ацуко, супруги императора Уда), эта концепция представляется вполне правомерной. Показательно, что названная выше дата (951 г.) вошла и в некоторые литературные энциклопедические словари, например в Котэн доккай дзитэн. [6, с. 473] С проблемой датировки памятника неразрывно связан вопрос об авторе произведения. В предисловиях к неакадемическим изданиям Ямато-моногатари в Японии, а также в японских обзорных трудах по истории литературы и особенно в европейских [ 7, с. 162] чаще всего указывается, что автор произведения неизвестен. Веским для этого основанием служит высказывание в том же Фукурососи: «Автор неизвестен». В кратком предисловии к публикации Ямато-моногатари серии Кокубунсосё говорится, что, хотя личность автора не установлена, существует гипотеза, согласно которой произведение написано Аривара-но Сигэхару, вторым сыном прославленного поэта Аривара-но Нарихира, кроме того, оно могло быть создано императором Кадзан-ин. [8, с. 6] Абэ Тосико и Имаи Гэнъэ расширяют этот список гипотетических авторов, перечисляя выдвигавшиеся в разное время имена: Кадзан-ин, Аривара-но Сигэхару, фрейлина Исэ, Ямато (фрейлина принца Ацуёси) и др. Не отдавая предпочтения ни одной из этих возможностей, Абэ Тосико и Имаи Гэнъэ указывают, что автор Ямато-моногатари, несомненно, принадлежал к кругу Фудзивара (а надо сказать, что членов семьи Фудзивара в чине министра и выше было тогда более десяти человек, членов императорской семьи и принцев – около сорока), видимо, автор также был связан родственными узами с императорской семьёй. Абэ Тосико и Имаи Гэнъэ представляется, что автор не выражает большого сочувствия переживаниям женщин, относится к ним скорее холодно иронически, некоторые эпизоды носят «разоблачительный для дам» характер, отсюда делается вывод, что автор Ямато-моногатари – мужчина. Причём мужчина этот был, по мнению названных выше учёных, в чине тюдзё, ибо по отношению к чинам выше тюнагон в тексте употребляются лексические и грамматические формы выражения вежливости, с чинами ниже тюдзё и сёсё такое явление совершенно не встречается. [5, с. 223-224] Выше уже говорилось о той группе списков Ямато-моногатари, в которой 173-й дан помещён после дополнительных повествований, совпадающих с Хэйтю-моногатари, произведением того же периода, и сразу после 173-го дан имеется приписка: «В одной книге сказано, что это повествование соизволил сложить Кадзан-ин». Поэтому многие исследователи издавна приписывают памятник авторству Кадзан-ин. Однако Абэ Тосико ив своей обширной монографии о Ямато-моногатари пишет в опровержение этой теории: «Полагая, что оригинальный текст „Ямато-моногатари“ был создан в 5-м году Тэнряку… я не могу считать Кадзан-ин автором всего этого произведения. И выражение „это повествование,“ с моей точки зрения, правомернее рассматривать как относящееся лишь к 173-му дан – рассказу о Ёсиминэ Мунэсада. В девятнадцать лет… в печали принявшему постриг императору Кадзан-ин, видимо, был по душе образ Мунэсада, который в одиночестве укрылся в горах и предавался там скорби после того, как монарх, даривший его своей милостью, скончался». [ 4, с. 27] Автор монографии выдвигает следующую гипотезу: судя по содержанию произведения, написавший его был близок к Мунэюки, Сикибугё-но мия, Нанъин-но мия. По чёткости комментирующих замечаний, по разнообразию предметов, интересующих автора Ямато-моногатари помимо любви, Абэ Тосико заключает, что это должно быть мужчина. Однако некоторые места в тексте, по мнению Абэ Тосико, переданы как будто с женских слов. Например, в 65-м дан: «Не оттого ли, что лицо его очень уродливо, как на него взглянёшь, [и не складывается с ним любовь]? – так она как будто о нём рассказывала». [ 8, с. 262] Кроме того, часто встречаются в тексте фразы типа: «Вот как об этом рассказывают люди» или «Ответ тоже был, но позабыт людьми», т. е., возможно, имеется в виду определённое лицо, со слов которого записывался текст. Слово хито («человек», «люди») в таких фразах Абэ Тосико предпочитает трактовать как «человек», т. е. в единственном числе, считая, что тут имеется в виду прежде всего тот, кто рассказывал историю. Рассказчиком же, полагает Абэ Тосико, была фрейлина Ямато, а записал её рассказы некий придворный, использовавший, кроме того, те поэтические сборники разных домов, какие были ему доступны, а также вписавший туда все анекдоты и истории о происхождении танка, которые казались ему интересными. Вскоре после создания антологии Сюисю произведение подправил другой человек, возможно Кадзан-ин, в этом виде оно впоследствии и получило распространение. [4, с. 50] Иную гипотезу выдвигает другой известный исследователь Ямато-моногатари, автор монографии об этом памятнике, Такахаси Сёдзи. С его точки зрения, написавший Ямато-моногатари был полноправным членом литературных салонов эпохи Хэйан. Употребляя в своём творении слово мукаси («давным-давно», «в старину»), он преследовал цель внесения элемента романтического в повествование о предшествующей эпохе, при этом действительное, реальное и близкое автору компонуется в начальной части произведения, до 140-го дан. Уже в 147-м дан, в предании о реке Икута, описывается, как придворные Ацуко, супруги императора Уда, начиная с фрейлины Исэ, слагают танка за персонажей этого предания, изображённых на ширмах императрицы. То обстоятельство, что автор Ямато-моногатари не мог опустить этого события, пересказывая давнее предание, свидетельствует, по мнению Такахаси, что тот был непосредственно связан с окружением экс-императора Уда. Символично также, пишет Такахаси, что произведение начинается отречением императора Уда от престола: «Когда император Тэйдзи вознамерился сложить с себя сан, сиятельная Исэ-но го на стене флигеля Кокидэн написала…» – таким образом, Уда представляется ему центральным персонажем, ибо в основном в произведении собраны истории, касающиеся членов литературного салона экс-императора Уда. Приняв постриг, этот император усерднее прежнего занялся изящными искусствами, не прекращая связей с литераторами-придворными. Интересно, что в списках Ямато-моногатари, относящихся ко II группе, в 1-м дан вместо Исэ-но го говорится ару хито («некто»). Трудно вообразить, пишет Такахаси, что Исэ-но го было исправлено впоследствии на ару хито. Скорее в тексте первоначально было именно ару хито, тем более что списки II группы явно более старые, чем рукописи других групп. Кроме 1-го дан Исэ-но го появляется ещё в 147-м дан. Эта фрейлина пользовалась особой благосклонностью императора, была матерью его детей. В 1-м дан говорится о том, как она печалится, расставаясь с двором, когда император принимает постриг, в 147-м дан рассказывается о её участи в ута-авасэ (поэтическом состязании в сложении танка), т. е. её связи с императором не прерываются. Вполне вероятно, что именно Исэ была автором Ямато-моногатари, пишет Такахаси, ссылаясь при этом на статью Оригути Нобуо «Создание Ямато-моногатари («Журнал истории японской литературы»): «С моей точки зрения, Ямато-моногатари было написано Исэ-но го. Она была дочерью правителя Ямато, потому и написала “повесть о Ямато”. Сложив повествование о старом и новом Ямато, она создала ута-моногатари о собственных предшественниках и современниках, особенно развив части, касающиеся этих последних. С точки зрения формы в её произведении отсутствуют элементы дневника (никки), но слухи переданы в таком изобилии что невольно вспоминаются женские дневники. Постепенно эти услышанные от людей сведения получают всё большее развитие и принимают такой вид, что становится трудно различать, до какой степени написанное принадлежит Исэ-но го». [9, с. 160] Такахаси Сёдзи, принимая концепцию Абэ Тосико относительно создания памятника около 951 г., пишет далее, что к этому времени Ямато-моногатари, видимо, уже претерпело некоторое развитие и выражение ару хито («некто») было заменено переписчиками на Исэ-но го. Это было её сочинение, поэтому из скромности она и не вписала туда своё имя. Таким образом, если принять, что в оригинальном тексте содержалось не Исэ-но го, а ару хито, то, видимо, автором надо считать Исэ-но го либо, во всяком случае, кого-то из окружения экс-императора Уда. [9, с. 158-162] В некоторых исследованиях доказывается, что первая часть Ямато-моногатари заметно отличается от второй с точки зрения словоупотребления, что может свидетельствовать о разных авторах этих частей. Примечательно, однако, что, сходясь в вычленении этих словарных различий разных частей памятника, учёные не согласны в выводах, какая часть была создана ранее, и если Оно Сусуму считает, что вторая половина более новая, то Кояма Ацуко полагает её более старой по сравнению с первой. [9, с. 78-79] Итак, вопрос об авторе произведения, вопрос, безусловно, очень интересный, на нынешнем этапе, видимо, ещё не может быть решён однозначно. С проблемой авторства тесно связан и вопрос названия памятника. Киёскэ в Фукурососи пишет: «Не потому ли, что это японское повествование – [так называемая книга]?» (Ямато – древнее название Японии). То же утверждал и Китамура Кигин: «Название Ямато, должно быть, дано оттого, что записывались многие старые события этой земли». Иноуэ Фумио, комментатор Ямато-моногатари, также полагал, что «название дано потому только, что повествование японское» (1853 г.). Другая точка зрения состоит в том, что под Ямато имеется в виду не вся Япония, а только провинция Ямато, и, таким образом, произведение противопоставлено синхронному памятнику того же жанра Исэ-моногатари (получившему название по топониму Исэ). Примечания Камо Мабути (японский филолог XVIII в.) гласят: «Считают, что смысл [названия] в том, чтобы повести о провинции Исэ противопоставить повествование о столице». Кидзаки Масаоки в 1776 г. писал, что название произведения связано с именем написавшей его фрейлины принца Ацуёси – Ямато. Высказывалось также мнение, что памятник назван Ямато в отличие от «повествований о китайской земле» (имеется в виду не Кара-монотогари, а Каракуни-то ифу моногатари, т. е. «Повествование о китайской земле», упоминаемое в Хамамацу-тюнагон моногатари). Помимо перечисленных выше Абэ Тосико приводит также соображения проф. Фудзиока Сакутаро: «Не имеется ли в виду, что это повествование, содержащее танка?» (т.е. чисто японский жанр). [4, с. 51] Таким образом, знакомясь с литературой, связанной с происхождением Ямато-моногатари, мы обнаруживаем несколько концепций, подкреплённых более или менее вескими аргументами, ни одна из которых всё же не может в настоящее время считаться доказанной. Очевидно одно: памятник имеет несколько слоёв и, видимо, не весь написан одной и той же рукой, хотя большой массив текста, несомненно, принадлежат одному автору. Техника повествования может представляться унифицированной ещё потому, что все эпизоды построены сходным образом, излагая, кто, когда, где, при каких обстоятельствах какую танка сложил. Однако эта схема, казалось бы общая и для Исэ-моногатари и для Ямато-моногатари, в последнем памятнике претерпевает столь существенные изменения, что они начинают менять жанровую природу произведения, свидетельствуя об индивидуальном авторском начале и особых авторских задачах. Немаловажно, что Ямато-моногатари имеет и специфическую лексическую окраску, в частности установку на разговорность, что характеризует почти весь текст памятника. Примером этому может служить употребление частицы наму, выполняющей усилительно-подчёркивающую функцию и встречающейся в тексте 234 раза (при этом в Такэтори-моногатари наму встречается 5 раз, в Уцубо-моногатари – 119, в Отикубо-моногатари – 79, в Исэ-моногатари – 64, в Хэйтю-моногатари – 16, ещё меньше эта частица употребляется в Тоса-никки – 15 раз, в Мурасаки-сикибу никки – 7, в Макура-но соси – 6, в Идзуми-сикибу никки – 1.) [ 9, с. 221] Эта яркая особенность словоупотребления тоже говорит об индивидуальном стиле. В Ямато-моногатари нет главного героя или группы главенствующих персонажей, однако, несмотря на дробность, произведение имеет общую организацию: развитие повествования происходит в виде цепи. При этом эпизоды могут объединяться в группы общим персонажем, образной или сюжетной ассоциацией, сходством лирической темы танка и т. д. Основными тематическими разделами, повторяющимися перемежающимися друг с другом в Ямато-моногатари, можно считать: любовь, расставание, непродвижение по службе, печаль о бренности земного. В том числе примерно первая половина памятника (1-140 дан) содержит истории, рассказывающие о событиях периода регентства Фудзивара, вторая запечатлевает события прежних времён, чувствования которых были, видимо, образцом для современников создателя Ямато-моногатари. Интересную концепцию организованности дан в группы в рамках композиции всего памятника выдвигает в своей моно графии Такахаси Сёдзи. Исходя из выработанной им композиционной схемы, возможно сделать выводы касательно первоначального варианта памятника и стадий его изменения. По его мнению, основные блоки композиции таковы: I группа – расставание (1-13 дан), II – любовь(14-24 дан), III – печаль о бренности земного(25-29 дан), IV – сожаления о непродвижении по службе (30-37 дан), V – печаль о бренности земного (38-45 дан), VI – любовь (46-69 дан), VII – расставание (70-75 дан), VIII – любовь (76-96 дан), IX – расставание (97- 102 дан), X – любовь (103-140). 140-173-й дан составляют часть памятника, посвящённую историям прежних дней, и, как считает Такахаси Сёдзи, она не делится на более мелкие подгруппы. Интересен цепной тип связи между эпизодами, например, I группы (расставание), как его понимает Такахаси. Три первых дан этой группы связаны с пострижением императора Тэйдзи и расставанием, 4-й дан рассказывает о неповышении по службе и должен был бы по этому признаку быть включённым в VI группу. Однако он содержит виртуозную танка, обыгрывающую слово акэ – «алый», а танка предыдущего эпизода тоже связана с цветом, ибо в ней имеются слова иро – «цвет», сомэру – «красить». Таким образом, 4-й эпизод тоже оказывается в этой группы. 5-6-й дан выражают печаль разлуки, в 7-м рассказывается, как двое любящих расстались из-за ничтожного повода, в 8-м расставания не происходит, однако героиня складывает танка на тему разлуки, кроме того, сама ситуация напоминает ситуацию предыдущего эпизода и служит примером такого складывания отношений, которые могут привести к разрыву. 9-й и 10-й дан выражают печаль разлуки. 11-й эпизод включён в данную группу, так как в 13-м дан будет говориться о печали по поводу смерти Тосико, одной из героинь 11-го дан. 10-й дан оказывается в этой группе потому, что в нём идёт речь о том, как с некоей дамой завязал отношения кавалер – главный герой предыдущего, 11-го дан. При этом к концу группы в дан появляется всё больше элементов повествований о любви и завязывании отношений, что подготавливает начало II группы – «любовь». Связи между эпизодами оказываются весьма разнородными: дан могут объединяться общим персонажем (уровень композиции), сходностью ситуации (уровень сюжета), ассоциируемостью слов (лексический уровень), тождественностью лирической эмоции т. д. Вопрос о связанности эпизодов и степени продуманности их композиции непосредственно примыкает к проблеме реконструкции первоначального варианта памятника. Если в связях дан друг с другом в рамках всего памятника существует определённая упорядоченность и некоторые дан, а именно 80, 86, 120, 126-128, 131-133, нарушают эту упорядоченность, то на этом основании можно предположить, что они по какой-то причине занимают изолированное положение в тексте: например, 80-й и 85-й дан, по мнению Такахаси, представляют собой более поздние вставки. [9, с. 17] Первоначально, по-видимому, в тексте отсутствовал и 168-й дан, ибо в нём главным действующим лицом выступает Рё-сёсё, но, хотя тот же персонаж участвует и в событиях 21-го и 22-го дан, это не одно и то же лицо. В 21-22-м дан имеется в виду Ёсиминэ Наримаса, в 168-м – Ёсиминэ Мунэсада, т. е. монах Хэндзё – прославленный поэт Кокинсю, живший в 816-890 гг. История, излагающая те же события, имеется и в Хэндзёсю («Собрания Хэндзё», список, принадлежащий храму Нисихонгандзи). Однако в 168-м дан Ямато-моногатари описывается ряд событий, отсутствующих в Хэндзёсю, кроме того, 168-й дан носит следы гораздо большей композиционной упорядоченности, что свидетельствует о его более позднем происхождении. Если бы 168-й дан был написан тем же автором, что и весь предыдущий текст Ямато-моногатари, видимо, не было бы этой путаницы с именами и два разных человека не носили бы одного и того же сокращённого имени Рё-сёсё. Кроме 168-го дан, относящегося ко второй части памятника, повествующий о знаменитых личностях былого, стоят особняком, выпадая из системы связей с прочими дан, эпизоды 170-173. Явно позднее, по мнению Такахаси, к тексту был добавлен 173-й дан (вполне вероятна излагавшаяся выше гипотеза Абэ Тосико, что этот эпизод дописан был императором Кадзан-ин). Его главный герой – персонаж 168-го дан монах Хэндзё, т. е. Ёсиминэ Мунэсада, называемый в 168-м дан Рё-сёсё. Здесь он именуется полностью Ёсиминэ-но Мунэсада, что опять-таки было трудно объяснимо, если бы 168-й и 173-й дан написал один и тот же человек. Видимо, был период, когда последним эпизодом Ямато-моногатари был 172-й дан. Это подтверждается ещё и тем обстоятельством, что в ряде списков сразу же за 172-м дан следует 9-й дан из Хэйтю-моногатари. Кроме того, Такахаси Сёдзи указывает, что в оригинальном варианте Хэндзёсю отсутствует танка 173-го дан. Если бы, когда Ямато-моногатари было написано, 173-й дан уже существовал, эти танка должны были бы оказаться и в Хэндзёсю. Надо сказать, что и по содержанию эти танка несколько отличны от прочих пятистиший памятника, ибо первая танка этого дан имеет форму хонкадори, т. е. содержит довольно большую и несколько изменённую цитату из одного стихотворения антологии Кокинсю, четвёртая также представляет собой модификацию одной из танка Кокинсю. Явлений такого рода в тексте более нигде не встречается, что может служить признаком иного авторского стиля. Итак, 173-й дан скорее всего внесён позже. Что же касается 170-го и 171-го дан, то они помимо выпадения из тематической общности вступают ещё в хронологическое противоречие с соседними дан. Ведь все события, излагаемые в дан после 141-го, относятся к мукаси, т. е. к «прежним временам». Однако 170-й дан начинается словами: «Когда государственный советник Корэхира был в чине тюдзё…», а это могло обозначать лишь промежуток с 925 по 935 г. Начало 171-го дан гласит: «Когда нынешний левый министр…», что может относиться к 919-925гг. Эти события оказались здесь явно в нарушение порядка развёртывания повествования. Кроме того, 171-й дан оборван, последняя строка и танка дописаны позже, что подтверждается тем обстоятельством, что этот последний фрагмент, представляющий собой отрывок из антологии Госэнсю, в разных списках оформлен по-разному: книга Тамэудзи содержит и прозаическую часть, и танка, книга Тамэиэ – и то и другое, но записанное иначе – в две строки, в группе списков Каритани имеется только танка, в группе книг годов Канги и в списке Кацура-но мия проза и стихи сопровождаются припиской: «Из Госэнсю», в списках годов Тэмпуку приводится танка, прозаическая часть вписана более мелкими знаками и знаками такого же размера добавлена помета: «Из Госэнсю». Во всех остальных списках этого фрагмента вообще нет. Скорее всего он был приписан на ранней стадии хождения рукописи и при последующих переписываниях уже закреплялся знаками такого же размера, как и остальной текст. В оригинале же его не было. При этом текст 171-го дан оборван наподобие того, как это сделано в 169-м дан, который во многих списках помещается после 173-го и, видимо, также на каком-то этапе был последним. Но обрыв текста в 169-м дан имеет особую природу и предназначен для выполнения специальной функции. Видимо, человек, приписавший 171-й дан, оборвал его, имитируя метод, применённый автором в 169-м дан, но приём получился уже чисто поверхностным, ибо изображаемые события были прекрасно известны современникам и при пропусках легко восстанавливались, а обрыв в 169-м дан восполнить невозможно, что и было, по всей вероятности, целью автора, о чём мы далее будем говорить особо. Если принять, что 170-й и 171-й дан были созданы в одно время, то очевидно, что 172-й был добавлен позже и его введение в текст мотивировано тем, что в событиях, изображённых со 168-го по 168-й дан, участвуют знаменитые поэты Кокинсю Аривара-но Нарихира, Хэндзё, Оно-но Комати; в 172-м дан выводится поэт той же «Шестёрки Бессмертных» – Отомо-но Куронуси. Отсюда следует, что некогда 169-й, оборванный дан был действительно последним, завершающим в произведении. В таком случае 168-й дан был, видимо, создан тогда, когда 170-й и последующие ещё не были приписаны. Тот, кто приписал 168-й дан, по всей вероятности, понимал значение обрыва 169-го дан и, чтобы не ослабить этого литературного жеста, поместил добавляемый дан не после, а перед 169-м дан. Таким образом, как пишет Такахаси, дан добавлялись в следующем порядке: сначала перед 169-м, конечным был помещён 168-й, потом после 169-го были прибавлены 170-й и 171-й, и 171-й стал конечным, потом был приписан 172-й и уже затем 173-й. [9, с. 66] Особняком в тексте стоят также 161-166-й даны. Известны, что некоторые эпизоды Ямато-моногатари имеют аналогии в Хэйтю- моногатари, Исэ-моногатари, Хэндзёсю, Кондзяку-моногатари и т. д. 161-166-й дан повествуют об Аривара-но Нарихира, герое Исэ-моногатари, и отчасти совпадают с 3, 76, 100, 52, 125 и 99-м дан Исэ-моногатари (нумерация эпизодов рукописи годов Тэмпуку). Можно допустить, что эти дан Ямато-моногатари заимствованы Исэ. Однако 165-й и 166-й дан имеют стиль большие отличия от 125-го и 99-го эпизодов Исэ-моногатари [10, с. 146,129] , что можно предложить существование какого-то иного варианта Исэ. Далее, в конце 166-го дан говорится: «Эти события в виде повествования известны в свете» (Корэра ва моногатари-нитэ ё-ни ару кото домо нари). Невольно думается, что эта фраза относится ко всем шести (161-166) дан и подразумевает известное уже к тому времени Исэ-моногатари. Однако в Кокинсю, 11, где помещена танка, начинающаяся словами мидзу мо арадзу («не то чтобы не видел тебя») и входящая в 166-й дан Ямато и в 99-й Исэ, имеется приписка: «Эти стихи так и приведены в обычном Исэ-моногатари, как в Кокинсю, в иной книге первая танка сложена дамой, а кавалер ей отвечает». Значит, был ещё какой-то вариант Исэ-моногатари, в котором авторство двух этих танка было переставлено местами по сравнению с знаменитым вариантом Исэ. С этим неизвестным вариантом, как считает Такахаси Сёдзи, и было связано Ямато-моногатари, почерпнувшее из него ряд сюжетов. Последняя фраза 166-го дан в списках II группы встречается в таком виде: Корэ ва моногатари-нитэ ё-ни ару хока-но кото домо нари (букв. «Это в виде повествования имеет хождение и кроме того, что есть на свете»). Слово корэра («эти») заменено на корэ («это»), т. е. переписчик отнёс фразу только к 166-му дан. Видимо, эту фразу надо понимать следующим образом: «Эта история рассказывается не только так, как обычно в Исэ-моногатари». В рукописях III группы говорится уже не об «этой истории», а об «этих историях», т. е. обо всех шести дан, имеющих связь не с «обычным» Исэ-моногатари, а с тем, что существует помимо него. Надо полагать, что если 161-166-й дан Ямато-моногатари были взяты из Исэ, то это единственное, что почерпнуто из сложившегося, оформленного произведения. Эти фрагменты Исэ-моногатари уже давно пересказывались, стали привычными. Такахаси Сёдзи указывает на интересную деталь: обычно в случае, если в эпизоде действует тот же персонаж, что и в предыдущих, он уже называется не по имени или званию, а «тот же кавалер». В этой группе эпизодов каждый раз, кроме 165-го дан, повторяется чин Нарихира – тюдзё (дзайтюдзё – «нынешний тюдзё»), что, видимо, является иероглифическим переложением оборота, столь характерного для Исэ-моногатари: мукаси отоко арикэри, т. е. «в давние времена был кавалер». Иероглиф «дзай » входит также в имя Аривара. Видимо, эта группа эпизодов, связанных с Аривара-но Нарихира, отлична от остальных частей памятника и подлежит отдельному рассмотрению. Непосредственное отношение к вопросу о первоначальном, исходном списке памятника имеет также проблема, какие танка и в каком количестве имелись в первичном варианте по сравнению с известными ныне списками Ямато-моногатари. Фудзивара Киёскэ в Фукурососи указывал: «Вака (т. е. танка.) – 270, в том числе рэнга – 3». Если исключить те дан, что предполагаются более поздними, число танка как раз составит 270. Несколько сложнее получается с количеством рэнга. В нынешних вариантах Ямато-моногатари рэнга (т. е. дополнение к заданным строкам необходимого числа строк до танка) обнаруживается в 128-м дан (рэнга об олене), в 152-м (конец танка о соколе) и в 168-м (о часе Быка). Однако, если выкладки Такахаси Сёдзи верны и 168-й дан вставлен позже, тогда остаются лишь две рэнга, что не соответствуют данным, изложенным Фудзивара Киёскэ в Фукурососи. Однако здесь, пишет Такахаси Сёдзи, встаёт вопрос о 131-133-м дан. В первых двух поэты Кимутада и Мицунэ слагают танка на заданную императором тему. В 133-м дан тема не предлагается: император видит плачущую фрейлину, её спрашивают о причине слёз, та не отвечает, император неприятно поражён. И тогда начинается 113-й дан. |